
Si buscas
hosting web,
dominios web,
correos empresariales o
crear páginas web gratis,
ingresa a
PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe
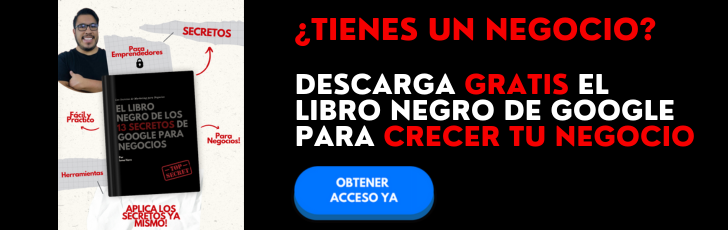

Here Are A Few Simple Suggestions With Regards To Picking A Domain Name
15 Jun 14 - 13:16
If you are serious about making cash online you're going to realize that the first thing you need to do is pick a good domain name. If you can acquire a domain name that has your key word phrase in it, you're going to realize that this can be an enormous benefit to the amount of traffic you get. Pick a domain name which provides your prospects a description of what they are searching for. By including the actual keywords in your domain name as well as including them in your marketing and advertising messages as well as your site content you can not help but flood traffic to your internet site!
Yet another thing you're going to need to do is stop thinking exactly how this product impresses you, and you should start thinking about what it are able to do for your customers. If a potential customer of yours can see precisely what they are searching for in your domain name you are going to find that the amount of traffic you obtain will increase substantially. The simplest way to turn your product into advantages is to list all the features of your products on a piece of paper first. At this point you want to take your list and look at it as if you're a customer to learn what sorts of benefits each feature has. The actual traffic driving possibility of keyword targeted domain names is impressive, so long as you research your target market and fulfill their needs, desires and benefits. Researching your key word for your domain name is an extremely important part of this process, simply because you wish to ensure that what ever phrase targeting actually get searched for.
You should also want to make sure that your domain name reads as a kind of headline that you would want someone to notice. This is an incredibly powerful technique to ensure that your visitors know precisely what your product can do for them to help solve their issues. You may not recognize this but this is actually going to be able to drive traffic all on its own.. When it comes to the key words and phrases you use in your domain name it's important to make sure that it is easy to remember for the people who see it.
The particular job of your domain name would be to act like a headline to drive targeted traffic to your site by getting the folks who see it, to want to check it out. The proper wording and phrasing in your domain name is very important as you actually want your customers to be curious by the domain name. You'll realize that not only will you do better on your search engine rankings you'll also attract far more attention with your pay per click ads or any kind of advertising you use.
о обрезанная, четырехугольная черная декоративная плоскость. Она начиналась низко над изголовьем гроба и, постепенно расширяясь, косо уходила вверх, в никуда. Конструкция работы лефовца Лавинского, как бы на миг приоткрывшая что-то бесконечное, бездонное, готовое навсегда затвориться.
Гроб был мелкий, стоял невысоко, и тело спящего Маяковского в новом заграничном костюме с артистически изогнутой кистью руки, будто бы вот только что, сию минуту, выпустившей из побелевших пальцев стило, виднелось почти целиком, стройное, длинное, моложавое, с темными волосами, неестественно гладко зачесанными — чего при его жизни никогда не было, — а наискось через нахмуренный лоб, через переносицу тянулся свежий, синевато-чугунный шрам — след падения после того, как он выстрелил себе в сердце, и мишень щелкнула, и механизм сработал, зажужжал, и комната стала вращаться вокруг него вместе с шведским бюро, железной кроватью и фотографией Ленина на белой стене, и уже ничем нельзя было помочь, и вернуть роковой порыв, и даже повернуть голову, прижатую страшной силой земного притяжения к полу, и, постепенно холодея, все перепуталось… все перепуталось… все перепуталось…
В край гроба упирались ноги в больших, новых, очень дорогих башмаках заграничной работы на толстой подошве со стальными скобочками, чтобы не сбивать носки, предмет моей зависти, о которых Маяковский позавчера сказал мне в полутемной комнате: «вечные».
Я стоял с черно-красной повязкой на рукаве, — в почетном карауле — у его изголовья и против себя — по ту сторону лежащего Маяковского — видел его маму, маленькую старушку, и сестер в трауре, которые сидели на стульях, не спуская глаз со спящей головы их Володи.
«Allo! Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда деться».
Потом я увидел как бы все вокруг заслонившее, все облитое сверкающими слезами скуластое темногубое лицо мулата. Я узнал Пастернака. Его руки машинально делали такие движения, как будто он хотел разорвать себе грудь, сломать свою грудную клетку, а может быть, мне только так казалось.
Народу было еще не слишком много. По углам гроба бесшумно сменялся почетный караул. Не помню, была ли музыка. Наверное, была. Но она не могла заглушить тишины. Со двора по лестнице поднимались один за другим его читатели, главным образом молодежь, вузовцы, школьники, рабочие, красноармейцы, курсанты — юноши и девушки. Они шли цепочкой один за другим — заплаканные, помертвевшие — мимо узких вазончиков с длинными, бледными парниковыми розами, расставленными снизу вверх на каждой ступеньке и вдоль стены коридора, который вел к его гробу.
Они проходили мимо, видя его, быть может, впервые в жизни. Среди них несомненно была Клавдия Заремба в старой кожаной куртке и красной женотделовской косынке, которые в то время уже становились редкостью. Она плакала и выиграла слезы согнутым указательным пальцем. Она еще была молода, и в глубине ее узких таинственно-темных глаз как бы светилась лунная ночь. Она узнала меня и грустно улыбнулась.
— Видишь, какая стряслась беда, — сказала она, крепко, по-мужски, пожав мне руку, и вышла из зала.
А он все лежал, и лежал, и лежал на спине, уже начисто выбритый, в спокойной, совсем несвойственной ему позе, и только нахмуренный лоб со шрамом говорил о том, с каким нечеловеческим напряжением он писал и чего стоили ему его гениальные поэмы… Уже, собственно говоря, и не он, а лишь его телесная оболочка — лицо цвета магнолии и гладко причесанная голова.
«И в подошвах его башмаков так неистово виделись гвозди, что, казалось, на дюйм выступали из толстых подошв… Он точил их — но тщетно! — наждачным километром Ниццы, он сбивал их булыжной Москвою, — но зря! И, не выдержав пытки, заплакал в районе Мясницкой, прислонясь к фонарю, на котором горела заря».
…На бульваре в Сочи черномазый глазастый мальчик проворно слазил на старую магнолию и принес мне мглисто-зеленую ветку с громадным цветком. И мальчик и цветок напомнили мне Маяковского.
«Маяк заводит красный глаз. Гремит, гремит мотор. Вдоль моря долго спит Кавказ, завернут в бурку гор. Чужое море бьет волной. В каюте смертный сон. Как он душист, цветок больной, и как печален он! Тяжелый, смертный вкус во рту. Каюта — узкий гроб. И смерть последнюю черту кладет на синий лоб».
Он уже давно существовал в каком-то другом измерении, я же продолжал двигаться во времени и пространстве, как обычно, и однажды лет тридцать тому вперед, выйдя из лифта на последнем этаже, в мокрых дождевиках, «импермеаблях», по которым как бы еще продолжали струиться отражения разноцветных огней Пасси, — жена и я очутились перед коричневой дверью. Лет сорок назад эта дверь, вероятно, была еще совсем новая, и в теплой лестничной клетке хорошо пахло дорогой масляной краской, полированным деревом, начищенной медью.
Помню маленькую желтую книжечку на столе у Бунина — «Дверь ста печалей» Киплинга, которая вышла тогда под его редакцией. Оказывается, Бунин очень признавал Киплинга, что меня тогда крайне удивляло. Что общего между Буниным и Киплингом? Мне даже подумалось тогда, что Бунин несколько рисуется любовью к Киплингу или взялся за его редактирование лишь для того, чтобы подработать во время своей тогдашней полуэмиграции. Впоследствии я понял, что между ними, как это ни странно, много общего: ощущение наступившей в мире эпохи империализма, художественный космополитизм при остром чувстве своей национальной исключительности.
…В этой лестничной клетке я уже однажды побывал тридцать лет назад, когда на несколько недель попал в Париж, и бросился разыскивать Бунина, и очутился перед этой дверью — молодой, взволнованный, в щегольском габардиновом темно-синем макинтоше на шелковой подкладке, купленном у Адама в Берлине, в модной вязаной рубашке, в толстом шерстяном галстуке, но в советской кепке, побывавшей уже вместе со мной на Магнитострое, сдвинутой немного на ухо — под Маяковского.
Я несколько раз постучал в дверь, но, не получив ответа, уже было собрался уходить, как вдруг дверь напротив щелкнула, отворилась, и я увидел знакомое «еще с тех пор» лицо друга Бунина, художника Нилуса. Это он некогда жил в Одессе в особняке Буковецкого на Княжеской улице, на чердаке, и часто, не застав Бунина дома, я взбирался по крутой лестнице в его мастерскую, описанную в «Снах Чанга», и читал ему, вместо того чтобы читать Бунину, свои новые рассказы и стихи. У него была запоминающаяся внешность, и по-моему, именно с него написал Бунин портрет композитора из рассказа «Ида».
«Господа, — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, — господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, услужающий, самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. — Вы мои королевские замашки знаете».
А может быть, Бунин написал героя «Иды» с Ипполитова-Иванова?
Теперь уже королевских замашек не было; был обносившийся коротенький пиджачок, который он придерживал опухшей рукой на горле, но широкое, монголовидное лицо с узкими глазками осталось, хотя и заметно постарело, утратило былое оживление.
— Что вам угодно, мосье? — спросил он по-французски. — Вы, вероятно, разыскиваете господина Бунина, но его в данное время нет в Париже.Gqwerpo765Nb
— Какие же у Ивана тиражи? Пятьсот, восемьсот экземпляров.
— У нас бы его издавали сотнями тысяч, — почти простонал я. — Поймите, как это страшно: великий писатель, который не имеет читателей. Зачем он уехал за границу? Ради чего?
— Ради свободы, независимости, — строго сказал Нилус.
Я понял: Бунин променял две самые драгоценные вещи — Родину и Революцию — на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости, которых он всю жизнь добивался, в чем я убедился, получив от него уже после войны, в 1946 году, одну из лучших его книг — «Лику», где прочел следующие, глубоко меня потрясшие места:
«Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому не нужна!. Брал… всякие „Биографии замечательных людей“: все затем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми… „Замечательные люди“! Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей, а сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечные! Гомер, Гораций, Виргилий, Дант, Петрарка… Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте… Расин, Мольер… Все тот же „Дон-Кихот“, все та же „Манон Леско“… В этой комнате я, помню, впервые прочел Радищева — с большим восхищением. „Я взглянул окрест — душа моя страданиями человечества уязвлена стала!“ Этот язык, этот строй души я понимал».
«…Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него… Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы „бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений“!»
«„Социальные контрасты!“ — думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины… На Московской я заходил в извозчичью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мною два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам… Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!»
(Ах, этот знаменитый русский трактир, кто из поэтов не увлекался его красками. Помните, у Маяковского: «Влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки!»)
«…Сидя в санках, — читал я у Бунина, в то время как мимо окон пробегали маленькие домны Бельгии, — вместе с ними ныряя и спускаясь из ухаба в ухаб, поднимаю голову — ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему! Тучи идут, открывают его, опять заволакивают — ему все равно, нет никакого дела до них! Я до боли держу голову закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять, когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из туч: какое оно? Белая маска с мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Так и скажу где-нибудь!»
Он и меня учил этому. «Опишите воробья. Опишите девочку». Но что же получилось? Я описал девочку, а она оказалась «девушкой из совпартшколы», героиней Революции. А Революции меня учил Маяковский. «Опишите Магнитогорск. Время, вперед!» И девушка из совпартшколы, вернувшись из Монголии, превратилась в бригадира бетонщиков и прошла по лесам коксохима в кожаной старой куртке и выгоревшей на степном солнце красной косынке.
Иногда на некоторое время я снова превращался в Пчелкина, который продолжал заниматься поэзией, а стихи Пчелкина были так себе, в духе раннего, еще очень сырого мовизма.
«Весну печатью ледяной скрепили поздние морозы, но пахнет воздух молодой лимонным запахом мимозы, и я по-зимнему бегу, дыша на руки без перчаток, туда, где блещет на снегу весны стеклянный отпечаток. // Был май, стояли ночи лётные, и в белом небе без движения висели мертвые животные аэростатов заграждения. // Уже давно, не день, не два, моя душа полужива, но сердце ходит, дни кружатся, томя страданием двойным, что невозможно быть живым и трудно мертвым притворяться. // Когда я буду умирать, о жизни сожалеть не буду, я просто лягу на кровать, и всем прощу, и все забуду. // Величью цезаря не верь, есть только бронзовая дверь, во тьму открытая немного, и два гвардейца у порога. // То очень медленно, то быстро неуловимая звезда, всегда внезапная, как выстрел, блеснувши, гасла без следа».
У них у обоих учился я видеть мир — у Бунина и у Маяковского… Но мир-то был разный.
Бунин думал, по-видимому, был глубоко убежден, что он совершенно независимый, чистый художник, изобразитель, ничего общего не имеющий ни с «социальными контрастами», ни с «борьбой с произволом и насилием, с защитой угнетенных и обездоленных» и, уж конечно, ничего общего не имеющий с Революцией, точнее сказать, никак не принимающий ее, даже прямо враждебный ей.
Это была лишь детская иллюзия, порыв к воображаемой художественной независимости.
Если бы Льву Толстому, который начисто отрицал всяческую революцию, был глубоко ей чужд, считал ее делом абсолютно не моральным, в один прекрасный день сказали, что он зеркало русской революции, то он бы, наверное, был возмущен до глубины души, совершенно искренне считая, что это вздор. И однако же, это истина.
Бунин хотел быть совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств по отношению к обществу, в котором он жил, по отношению к родине. Ему думалось, что, попав в эмиграцию, он добился своего. За границей он казался сам себе совершенно свободным, чтобы писать все, что ему вздумается, не подчиняясь ни государственной цензуре, ни суду общества. До Бунина не было никакого дела ни французскому государству, ни парижскому обществу, ни католической церкви. Он писал все, что хотел, не сдерживаемый никакими моральными обязательствами, даже иногда простыми приличиями. Как изобразитель он рос и к концу своей жизни достиг высшей степени пластического совершенства. Но отсутствие морального давления извне привело к тому, что Бунин-художник перестал выбирать точки приложения своих способностей, своих душевных сил. Он не мог справиться с «тысячеглавой гидрой эмпиризма», о которой говорил Гёте, и она поглотила его, вернее, он был разорван на куски, как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному давлению десятков, сотен, может быть тысяч, атмосфер и вдруг оказавшаяся на поверхности, почти не испытывая больше никакого давления.
Для него художественное творчество перестало быть борьбой и превратилось в простую привычку изображать, в гимнастику воображения.
Я вспомнил его слова, некогда сказанные мне, что все можно изобразить словами, но все же есть предел, который не может преодолеть даже самый великий поэт. Всегда остается нечто «не выразимое словами». И с этим надо примириться. Может быть, это и верно. Но дело в том, что Бунин слишком рано поставил себе этот предел, ограничитель. В свое время мне тоже казалось, что он дошел до полного и окончательного совершенства в изображении самых сокровенных тонкостей окружающего нас мира, природы. Он, конечно, в этом отношении превзошел и Полонского и Фета, но все же — сам того не подозревая — уже кое в чем уступал Иннокентию Анненскому, а затем Пастернаку и Мандельштаму последнего периода, которые еще на какое-то деление передвинули шкалу изобразительного мастерства.
Но все равно ему всегда было далеко до Пушкина, который сказал в «Барышне-крестьянке»: «маленькие пестрые лапти…»
16678